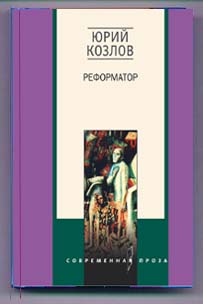[ ENGLISH ] [AUTO] [KOI-8R] [WINDOWS] [DOS]
[ISO-8859]

Юрий Козлов
Реформатор
Роман
Вскоре выходит в издательстве Центрполиграф в серии "Современная проза".
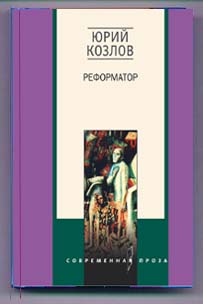
Формалин
Что делал бомж в подъезде стандартного двенадцатиэтажного дома 19/611 на улице Слунцовой в районе Карлин, Прага-6? Собственно, глупо было задаваться этим вопросом в столице великого герцогства Богемия, ибо злато-, сребо-, а также медно-, цинково-, булыжно-, кирпично-, черепично- , кое где - проломленно-, а то и вовсе безбашенная Прага давно считалась европейской столицей бомжей.
Бомж сидел на лестнице между одиннадцатым и двенадцатым этажом, прихлебывая из темной как ночь, как жизнь (бомжа?), как смерть, бутылки, одновременно пошаривая рукой внутри приткнутого у ног пластикового пакета. Вышедший в тапочках из квартиры Никита Иванович Русаков моментально раздумал вызывать лифт, спускаться к почтовому ящику, где его ожидала газета "Lidove noviny" и, быть может, какие-нибудь муниципально-окружного значения рекламные листки, которые Никита Иванович выбрасывал не читая. Он поселился в Богемии (до отделения Моравии нынешнее великое герцогство называлось Чешской республикой) пятнадцать лет назад перед самой Великой Антиглобалистской революцией, но так и не научился всерьез относиться к государству, в котором жил, что свидетельствовало (он отдавал себе в этом отчет) о некоей совершенно неуместной в его положении - эмигранта, ЛБГ (лица без гражданства), наконец, "гражданина мира" - гордыне. Она была сродни гордыне бомжа, безмятежно (как господин при деньгах в ресторане) выпивающего и закусывающего в подъезде стандартного двенадцатиэтажного дома 19/611 на улице Слунцовой в районе Карлин, Прага-6. И, тем не менее, каждое утро Никита Иванович спускался к почтовому ящику, как если бы надеялся получить (благое?) известие... о чем? И от кого?
От Господа Бога?
Но в распоряжении Господа Бога, как известно, имелись куда более современные средства коммуникации, нежели почта. Что, впрочем, никоим образом не свидетельствовало, что Бог пренебрегает почтой. После введения в континентальной Европе ограничений на использование Интернета, захиревшая было почта повсеместно оживилась. Правда, воскресшие почтовые ведомства сильно напоминали военные. Каждому почтальону выдавалось табельное оружие, а в иных местах корреспонденцию развозили на танках, не самом быстром, как известно, транспорте. К примеру, письмо из Парижа в Прагу сейчас шло неделю, то есть примерно столько же сколько в ХVIII веке.
Это было добрым знаком. Все, что напоминало прошлое, с некоторых пор считалось в пережившей Великую Антиглобалистскую революцию Европе добрым знаком.
Что-то не так было с бомжом.
Закрыв дверь, Никита Иванович попытался понять, что именно не так. Он всегда был болезненно (мучительно) осторожен. Причем, старея - сейчас ему было сорок семь, следовательно, любые иные определения (взрослея, совершенствуясь, мужая, мудрея) представлялись неуместными - становился все более осторожным. Если существовал некий абсолют осторожности, то надо думать Никита Иванович давно его преодолел. Жизнь за границей абсолюта (в персональном мире сверхабсолюта) представлялась неслышной, стерильной и замедленной, как внутри сосуда с формалином. Если, конечно, можно было уподобить столицу великого герцогства Богемия Прагу, район Карлин, улицу Слунцовой, дом 19/611, трехкомнатную с длинным коридором квартиру на одиннадцатом этаже сосуду с формалином. Хотя, почему, собственно, нет? В эпоху постглобализма жизнь принимала самые разные, порой неожиданные формы.
Иногда Никите Ивановичу казалось, что это и не жизнь вовсе, но тогда что?
Быть может, сохранение (консервация) жизни, как сохранение беременности? Но тогда: во имя чего? Что именно готовился произвести на свет проживающий в Праге на птичьих правах сорокасемилетний эмигрант из России Никита Иванович Русаков, неизвестный, как только может быть неизвестен литератор, сочиняющий в Богемии (не публикующиеся) футурологические романы и (крайне редко публикующиеся) на злобу дня эссе по-русски, да к тому же под разными псевдонимами? Вряд ли этим "дитяткой" мог оказаться роман "Титаник" всплывает", над которым в данный момент (не сказать, чтобы самозабвенно и победительно, скорее, вяло и пораженчески) трудился Никита Иванович. "Титаник" лежал на дне сосуда с формалином, а точнее его души, плотно и, похоже, совершенно не собирался "всплывать". Да, собственно, и некуда ему было всплывать, ибо формалиновая среда являлась самодостаточной и бесконечно консервативной, то есть беспощадной к любым проявлениям жизни. Жизнь, стало быть, можно было уподобить воздуху, который следовало закачать в заполненные формалином переборки "Титаника".
Но пока что формалин был сильнее жизни.
Так что это была именно его - Никиты Ивановича Русакова - жизнь, точнее нежизнь. И в том, что она была именно такая (без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви и т.д.) он мог винить (и, естественно, винил) историю, обстоятельства, Бога, власть(и), народ(ы), Великую Антиглобалистскую революцию, разрушившую мир и т.д., хотя единственно виноват (если, конечно, такое слово здесь уместно) в этом был он сам.
Даже и сейчас встречались люди, которые красиво жили и не менее красиво, а главное, очень быстро умирали.
Гораздо реже встречались такие, которые жили долго. Мир несказанно помолодел. Встретить старого человека, к примеру, в Праге было так же трудно, как встретить человека счастливого.
Никита Иванович сам выбрал долгую нежизнь.
И раз жил нежизнью, значит, она ему нравилась. Все прочее: слова, мысли, мечты, надежды и т.д., было призвано замаскировать (запутать) суть вещей.
Бесследно канувший в две тысячи седьмом году старший брат Савва любил повторять: "Осторожность может иной раз заменить ум, но не может заменить жизнь". Никита Иванович подумал, что в его случае - смогла. И еще подумал, что если вспомнить бессмертных Сокола и Ужа великого пролетарского (ныне забытого) писателя Горького, то он, Никита Иванович, - не просто уж, но уж в формалине, можно сказать, формальный уж.
Однако же в данный момент мысли Никиты Ивановича (гораздо в большей степени, нежели плотно залегший на дне души "Титаник") занимал бомж, которого он видел от силы мгновение. Мгновение-то мгновение, подумал он, но если это мгновение связанно со смертью, оно имеет обыкновение раздвигаться во времени и пространстве, подобно... лону, точнее, антилону, куда рано или поздно, как во врата уходит (как некогда явился) каждый смертный.
В свое время Никита Иванович лично знал обладательницу такого лона-антилона. Мысли о ней согревали его одинокими холодными формалиновыми ночами.
Никита Иванович в это чудное мгновение не обнаружил во взгляде бомжа ни отчаянья, ни печали, какие обычно присутствуют в глазах подавляющего большинства бездомных людей. Напротив, презрительно-спокоен был его взгляд, как если бы бомж полагал себя конгениальным (равнодостойным) бытию, неотъемлемой этого самого бытия частью. Кто, подумал Никита Иванович, в наше время конгениален бытию, то есть бесконечно уверен в себе? Законченные мерзавцы, вооруженные бандиты, почтальоны (с недавних пор), психи (с давних) и... матерые профессионалы, которым владение мастерством, бесконечное совершенствование в нем заменяет собственно бытие, точнее неизбежно сопутствующую бытию рефлексию. Но если допустить, что бомж - убийца-профессионал - продолжил, конкретизировав мысль, Никита Иванович, почему пластиковый пакет, в котором он шарит - с распахнувшим зубастую пасть крокодилом - эмблемой дорогого обувного магазина, совершенно новый, Обычно бомжи ходят с другими - не столь запоминающимися - пакетами. Профессионал не может этого не учитывать. Стало быть, по душу Никиты Ивановича прислали плохого профессионала?
А если нет?
Тогда, констатировал Никита Иванович, он бы сто раз успел пристрелить меня. Или прилепить к косяку пластиковую взрывчатку, которая бы взорвалась, едва Никита Иванович приоткрыл тяжелую металлическую дверь. Разодранная дверь уподобилась бы той самой крокодильей пасти, рвущей, нанизывающей на зубы его не сказать чтобы сильно упругую плоть.
Следовательно, или в планы мнимого бомжа это не входило, или входило, но не сейчас, или это был не мнимый, а самый настоящий бомж. Шикарный пакет мог достаться ему (как и все остальное его имущество) совершенно случайно. Иной раз жизнь дарит бомжам удивительные вещи.
В таком случае Никита Иванович городил огород на пустом месте.
Свято место пусто не бывает, подумал он, поглядывая в панорамный глазок, привычно орудуя смазанными щеколдами, в то время как пусто место далеко не всегда свято. К примеру, несвятость занятого бомжом пустого места на лестнице между одиннадцатым и двенадцатым этажами заключалась в том, что бомж, вне всяких сомнений, являлся профессионалом, у которого (в данный момент) не было приказа убить Никиту Ивановича Русакова. Несвятость пустого места скрывалась в пространстве среди бесчисленного множества (в сознании Никиты Ивановича они носились как астероиды: вверх-вниз, туда-сюда по- и против часовой стрелки) вероятных причин присутствия бомжа ( профессионала?) на лестничной клетке и одной-единственной истинной причиной. Но у истинной причины как бы имелся хвостик (кто и зачем прислал к Никите Ивановичу мнимого бомжа?), за который следовало потянуть. Хвостик мог легко оборваться, как у ящерицы, но мог оказаться и... крокодильим? Несвятость пустого места, собственно, заключалась в том, что всякое пустое (даже и временно залитое формалином) место рано или поздно опять заполнялось жизнью. Или смертью, подумал Никита Иванович, как неизбежным следствием (продолжением и завершением) жизни. Единственным способом избавиться от неопределенности, бесконечного толчения воды - формалина? - в ступе - было потянуть за хвостик, выяснить у бомжа: кто и зачем его послал? Хотя (Никита Иванович в этом не сомневался ) уровень погруженности бомжа (профессионала?) в многоходовую (ведь Никита Иванович все еще был жив) операцию вряд ли был достаточен, чтобы удовлетворить его законное любопытство.
Но для того, чтобы потянуть за хвостик, требовались: во-первых, мужество, во-вторых, сноровка, в-третьих, решительность. Все это Никита Иванович изрядно подрастерял за годы ужиной (не?) жизни в Праге.
Воистину, погруженный в формалин, "Титаник" досрочно, неконтролируемо всплывал, и не сказать, чтобы это доставляло радость Никите Ивановичу.
Не зная, что предпринять, цепляясь за мысль, что бомж - это всего лишь бомж (с таким же успехом можно было цепляться за мысль, что обнаруженная у себя, допустим, бубонная чума, пройдет сама собой, без лечения), Никита Иванович ушел на кухню. Он вдруг осознал одно из измерений своей формалиновой жизни в Праге: находясь внутри ничтожества, он одновременно как бы находился и вне ничтожества, в том смысле, что дышал ничтожеством как воздухом и, следовательно, не чувствовал ничтожества (воздуха). И еще Никита Иванович вспомнил, что слышал вчера в телевизионных новостях про эту самую бубонную чуму, обнаруженную, кажется, в греческом полисе Аргосе. Гражданам великого герцогства Богемии рекомендовалось воздерживаться от поездок в Грецию.
В апрельское утро 2022 года от Рождества Христова небо над Прагой казалось жестяным, как если бы решило уподобиться крыше над головой всех жителей столицы великого герцогства Богемии. Протекающей крышей, отметил, приблизившись к заставленному кастрюлями и сковородками окну, Никита Иванович. Капли дрожали, накапливая двигательную энергию, затем соскальзывали вниз, вычерчивая по стеклу неуловимый, быстро исчезающий, как человеческая жизнь, след. Вид из окна был не то чтобы уныл, но преисполнен тщеты и отсутствия гармонии, так как едва ли есть в мире что-то более тщетное и негармоничное, нежели побитые неурочным морозом, свернувшиеся молодые листья.
Кухонное окно смотрело в холмистый с акведуками и мостами, по которым когда-то проносились поезда, парк, окружающий собор святого Якоба (Никита Иванович не знал наверняка: старый это или новый - ХХI века - святой). Тем не менее, ветер пытался гнать по верхушкам деревьев упругую воздушную волну, которая застревала в мокрых отмороженных ветвях, казалась неестественной и болезненной, как глубокая морщина на лице ребенка.
В апреле на несчастную (а может, напротив, счастливую?) Европу обрушился санирующий арктический холод. Ночные заморозки и дневные ледяные дожди пока что удерживали (если верить ТВ) бубонную чуму в пределах Аргоса, который великий Гомер называл "конеобильным". Сейчас "конеобильным" считалось государство Паннония (степная часть бывшей Венгрии), населенное раскосыми людьми в островерхих шапках и кожаных штанах, поставляющее коней в Центральную и Южную Европу. Никита Иванович наблюдал несметные их табуны из окна самолета, когда летал в прошлом году отдыхать на Балатон. Они, казалось, росли прямо из земли, низенькие косматые кони и стелились по ней, как трава по ветру.
Раньше в этой (неурочное похолодание) связи был бы определенно вспомянут Промысел Божий, однако нынче в формально христианской, частично мусульманской, частично языческой, но фактически многобожественной (поли-, а может, пострелигиозной) Европе имя Божие, в отличие от века ХХ, всуе практически не упоминалось.
"Да такая ли уж ценность моя жизнь?" - скрипуче, как сквозь наждак, дыша - аллергическая (на нервной почве) астма всегда настигала его в самые неподходящие (если, конечно, у астмы могут быть подходящие) моменты - Никита Иванович устремился из кухни по длинному коридору в дальнюю комнату, где среди белья в шкафу прятал устаревшей модели, но вполне исправный "люгер" двадцать второго калибра с глушителем. Запахивая на хрипяшей, ходящей ходуном груди халат, устраивая за пазухой руку с пистолетом, чтобы в случае чего стрелять сквозь ткань, Никита Иванович не без грусти подумал, что в бытийном (Божественном, высшем, общечеловеческом, вселенском и т.д.) смысле его жизнь, конечно же, никакой ценности не представляет, однако, несмотря на это, лично ему, Никите Ивановичу Русакову, отчего-то жаль с ней вот так неожиданно взять и расстаться. Причем, до такой степени жаль, что он был готов не только не выходить из квартиры сейчас, но... вообще не выходить, пока не закончатся продукты. А там... видно будет. Имея в виду вероятные эпидемии, внезапные танковые рейды, бомбежки, непредвиденные войсковые операции, революционные, расовые, на религиозной почве и прочие волнения, он, как и большинство жителей Праги (бомжи, естественно, не в счет) держал дома солидный запасец воды и еды.
А еще Никите Ивановичу не хотелось расставаться с жизнью до выяснения, почему, собственно, он должен с ней расстаться? Логичнее было сначала узнать, а потом расстаться, чем расстаться, не узнав. Но данная (высшая?) логика в этом мире была доступна лишь богам (в каждом новом национальном государстве своим, не считая, естественно Иисуса Христа), но никак не смертным людям. Видимо, на исходе первой трети ХХI века самый смысл существования человека заключался в том, чтобы не просто внезапно расстаться с жизнью, но обязательно - до момента (естественно, чисто умозрительного и, в сущности, мало что меняющего) осознания, за что и почему. Так расстается с жизнью прихлопнутый комар. Так расстается с жизнью человек, прихлопнутый... да кем (чем?) угодно. Человеческая жизнь, - взгляд Никиты Ивановича упал на экран компьютера - с утра он работал над очередным своим безадресным эссе, - в постглобалистской Европе не стоит даже материала, затрачиваемого на ее пресечение. В сущности, сохранение жизни как таковой превратилось в сугубо личную (privacy) проблему лишь для ее непосредственного обладателя.
Беда моих эссе, самокритично признал Никита Иванович, в том, что я не открываю нового, в лучшем случае синтезирую из чужого нового нечто пригодное для вялого обывательского чтения. Стоит ли писать, подумал Никита Иванович, если не открываешь нового?
Выходило, что не стоит.
Стоит ли жить, подумал Никита Иванович, если не открываешь нового?
Тут ответ представлялся не столь однозначным. Многие люди не открывали нового, но жили, а некоторые, так очень даже неплохо жили.
Однако же, человечество, читатели, то есть те, кому (теоретически) адресовались сочинения Никиты Ивановича, встречали новое в штыки, можно сказать, ненавидели неизвестное, неосмысленное, предпочитая бесконечные вариации старого, известного, многократно осмысленного. Великая Антиглобалистская революция враз избавила их от иллюзий, что новое, как говорится, по определению лучше старого.
Никита Иванович пришел к выводу, что отныне задвинуть в общество какую-нибудь новую идею можно только при несомненном участии Господа Бога. Сознавать, что в твоих сочинениях нет нового, подумал он, это все равно, что сознавать, что в твоих сочинениях нет Бога. И все равно Никите Ивановичу было жаль, что, возможно, он так и не закончит свои, в общем-то никому не нужные (роман "Титаник" всплывает", эссе - у него пока не было названия) труды.
Никита Иванович подумал, что, готовясь, подобно вихрю, вылететь в халате и с "люгером" на лестничную клетку, он бросает вызов силам, погрузившим его в безвестное ничтожество, в формалин, в пустоту. Вот только не вполне понятно было, что это за силы? Вероятно, частично внешние, частично внутренние. Их соединение можно было уподобить химической реакции, в результате которой возникал формалин. В случае Никиты Ивановича, внешние силы подавляли внутренние, диктовали им. Следовательно, его личность не имела шансов себя проявить. Высшая и предпоследняя стадия развития личности, подумал Никита Иванович, это когда внутренние ее силы диктуют силам внешним. Самое удивительное, что он знал человека, поднявшегося до этой стадии. Вот только конец таких людей, как правило, был ужасен. Вероятно, подумал Никита Иванович, это происходит потому, что они путают свою волю с Божьей.
Естественно, у него не было стопроцентной уверенности, что получится "подобно вихрю". Никита Иванович увидел собственное отражение в темном зеркале: отвисшее брюхо, худые, птичьи какие-то ноги; лысый, но с клочьями седых волос над ушами, с седыми же редкими усами и мясистым, одновременно рыхлым и как бы (апоплексически) пропеченным изнутри лицом. В висящем мешком (саваном?) полосатом махровом халате он отнюдь не походил на героя, бросающего вызов судьбе. А если и походил, то на героя изначально обреченного на поражение, на опереточного, водевильного героя-идиота.
Или на сумасшедшего.
Никита Иванович с грустью констатировал, что, скорее всего, на сумасшедшего. Стоило столько лет бесшумно сидеть в формалине, чтобы вот так нелепо, никчемно (внезапно подумалось: как жил) погибнуть. Выходило, что предполагаемая смерть как раз и есть логическое завершение нелепой, никчемной жизни. Бог определенно явил ему свою милость, дав время не только это осознать, но (по возможности) и некоторым образом этому противостоять. Не сказать, чтобы данное умозаключение обрадовало Никиту Ивановича. Он подумал, что Бога гневят самые неожиданные вещи, включая такие, казалось бы, от Бога далекие, как ничтожная (растительная) жизнь отдельно взятого (Никиты Ивановича) человека.
Но чем дольше смотрел он на свое отражение, тем больше достоинств в себе открывал. Тусклое, запыленное зеркало в прихожей уподобилось тиглю, в котором прямо на глазах отливалась новая сущность Никиты Ивановича. Так однажды свинец в тигле средневекового алхимика (это было документально подтверждено тремя свидетелями - бургомистром, настоятелем местного монастыря и... палачом) однажды, а именно в ночь с тридцать первого июля на первое августа 1574 года, преобразился в золото. Чтобы впоследствии (как алхимик ни старался) не преображаться уже никогда. Никита Иванович увидел, как распрямились и развернулись его плечи, апоплексическая алкогольная пористость на лице (как свинец в золото в ту давнюю ночь) превратилась в благородный бронзовый загар, как если бы он только что вернулся... из Аргоса ? Брюхо само собой мускулисто подтянулось, и будто бы даже бицепсы и трицепсы обозначились под халатом. Вот только лысина, с сожалением отметил Никита Иванович, осталась непобедимой, не покрылась золотом волос. Зато светло-зеленые его, а в последние годы - бесцветно-водянистые - глаза вдруг сверкнули (зеркало отразило) в сумеречном коридоре, как если бы Никита Иванович превратился в волка или шакала. А может, хитрого лиса, потому что не столько крови мнимого бомжа жаждал Никита Иванович, сколько ответа (ов) на вопрос (ы).
Тяжелая металлическая пневматическая дверь подалась с трудом, будто Никита Иванович, сдвигая невообразимую толщу формалина, входил, подобно Одиссею, в мир теней, или, напротив, подобно опять же Одиссею, возвращался из мира теней (мертвых) в мир света (живых). Единственно, непонятно, было: зачем (в отличие от Одиссея) Никита Иванович это делает?
В следующее мгновение он уже (летающим ужом, не иначе) вылетел на полусогнутых на лестничную площадку и, не увидев бомжа - Никита Иванович сам не мог понять, откуда такая боевая прыть? - покатился по не сильно чистому плиточному полу, поочередно наводя "люгер" на места, где мог (и не мог, зачем, к примеру, Никита Иванович навел "люгер" на стоящий на подоконнике дивно разросшийся фикус?) затаиться бомж.
Но, как выяснилось, правильно сделал, что навел, потому что именно в этот момент светящиеся его глаза зафиксировали отделившееся от листа фикуса нечто, точнее даже не нечто, а некое колебание воздуха в макушке фикуса. Не раздумывая, Никита Иванович дважды выстрелил в это отделившееся нечто, зафиксировав помимо глухих пистолетных хлопков неуместный звук порвавшейся металлической струны. Что-то, зазвенев, упало на плиточный пол у самого его лица.
Некоторое время Никита Иванович еще тыкал "люгером" в разные стороны, но уже было ясно, что бомжа и след простыл. В отличие от с трудом рассмотренной на полу деформированной металлической стрелки, на остреньком носике которой как застывшая слеза висела пластиковая капелька яда.
Никита Иванович знал (слышал по ТВ) об этом новомодном оружии киллеров - крохотной отравленной самонаводящейся стрелке с микрокомпьютером. Достаточно было "ознакомить" микрокомпьютер с фотографией человека, разместить "пусковую установку" там, где несчастный человек мог появиться, и дело в шляпе. Когда-то такие самонаводящиеся ракеты использовали в горах против самолетов сражающиеся за независимость партизаны. Сегодня тысячекратно уменьшенные их копии - киллеры, тоже, в сущности, партизаны, только вот сражались они не за независимость, хотя, может статься и за (чью только?) независимость. Никита Иванович читал (если только это не была изощренная реклама), что последние (самые дорогие) модификации отравленных стрелок без следа растворяются в теле жертвы в течение нескольких мгновений . На него, похоже, дорогую стрелку пожалели. А может, не пожалели. Просто стрелки растворялись в теплых (остывающих) телах, а не на холодных каменных полах.
Никита Иванович принес из квартиры пинцет, поднял стрелку, уложил ее в металлическую коробочку из-под сигар. Он проделал это без малейшей опаски, потому что знал: Бог спас его, плохого, точнее, никакого стрелка. И спас, по всей видимости, не для того, чтобы тут же и уничтожить.
Спустившись на лифте вниз к почтовому ящику, он обнаружил в нем не только ожидаемые "Lidove noviny", но и неожиданный глянцевый конверт. Вскрыв его, Никита Иванович с изумлением узнал, что на его имя в местное почтовое отделение поступила "отложенная" бандероль, то есть бандероль, которую могли отправить когда угодно. Получить же ее, согласно воле неведомого отправителя, Никита Иванович был должен именно сегодня ровно в полдень, то есть в двенадцать ноль-ноль по среднеевропейскому времени.
Или (опять-таки согласно воле неведомого отправителя) никогда.
О чем и имело честь уведомить pana Rusakova местное почтовое отделение.
Продолжение до конца - 900 Кб
Господа! Роман большой. Просьба высказываться с этой кнопки, чтобы желающие
быстрее добирались до обсуждения!
Что говорят об этом в Дискуссионном
клубе?
- А вот кто прочитал роман Козлова "Реформатор"?
Я прочитал. Гм, и даже перепечатал на бумаге. Искренне рекомендую.
|
|
- Прочел по вашей рекомендации Юрия Козлова (роман "Реформатор") Имею, что сказать, но подожду, пока выскажется злоречивый Yuli Андреев. Куда он запропастился, кстати?
|
- Читатель-2
Я тоже прочитал козловского "Реформатора". Это такое классическое интеллигентско-философское бормотание. Но по крайней мере искренное и честное. Не то что у этих говнюков-Сорокиных.
Очень понравились отношения между братьями, отцом и матерью. Видно, что любят друг друга, как бы ехидно один над другим ни потешались.
А вот эссе, которые пишет один из героев романа, далеко не банальные, совсем наоборот. Ну, например:
"Народ - сволочь! Потому что его, как вонючая пена кипящую кастрюлю, переполняют низменные инстинкты. В сущности, он стремится к самоуничтожению. Народ всегда, тотально и во всем неправ!
Власть на то и власть, чтобы не дать ему реализовать свое право на неправоту, которое он, подлец, маскирует сначала под стремление к демократии, а после того как наиграется - под тоску по твердой руке. Как только власть про это забывает, она превращается в ничто! СССР гибнет не потому, что народ его ненавидит, а потому что власть не мешает народу его ненавидеть. Ненавидит же народ его
потому, что хочет, чтобы СССР погиб, а он остался. Но так не бывает. Нельзя, находясь в доме, его взрывать - завалит обломками. Но народ этого не понимает."
...И что возразить на это?
|
- Начал читать и я.И сразу наткнулся на вот что:
"Беда моих эссе, самокритично признал Никита Иванович, в том, что я не открываю нового, в лучшем случае синтезирую из чужого нового нечто пригодное для вялого обывательского чтения. Стоит ли писать, подумал Никита Иванович, если не
открываешь нового?
Выходило, что не стоит."
Вот именно. Таков же и сам роман.
|
|
- Господину второму читателю!
Вы пишите,
Я тоже прочитал козловского "Реформатора". Это такое классическое
интеллигентско-философское бормотание.
А кто Вам рассказал, что интеллигенты исчезли.
Или мы должны читать только о маньяках, бизнесменах и журналистах?
Почему всякое рефлектирующее, образованное письмо воспринимается как бормотание?
Не от того ли, что мы сами утратили тонкость восприятия? Так попса вытесняет
высокую классическую музыку.
|
|
- Написано "Роман с продолжением". И действительно, файл обрывается на половине строчки, точнее, даже слова.Это так задумано?
|
|
- Пусть автор объяснит также, при чем в романе Чехословакия! Почему именно там происходит целая глава?
|
| 236351 |
2001-12-27 19:09:29 |
| Yuli
|
|
- Так писать нельзя:
В отличие от с трудом рассмотренной на полу деформированной металлической стрелки, на остреньком носике которой как застывшая слеза висела пластиковая капелька яда.
Повторяю для будущих авторов футурологических сочинений: сегодня резко понизился средний интеллектуальный уровень жителей нашей планеты, что вызвано более высокой готовностью рожать детей у менее успешных в умственном отношении господ, а также нежелании почти всех групп населения упорно заниматься воспитанием потомства. Отсюда и следует вести отсчет. Все прогнозы, не учитывающие этого обстоятельства являются бессодержательными.
Показательно, что по темпам идиотизации населения впереди Америка, страна, в которой производится много продовольствия.
Глупые и сытые люди революций не устраивают, как не устраивают их умные, даже если они голодны.
|
|
- Тут кто-то сильно рекомендовал читать Козлова. Я читал. Хорошими намерениями выстлана дорога в ад. Роман потерепел поражение, адекватное наполеоновскому замыслу. Автору следовало бы заглянуть в "Краткую литературоведческую энциклопедию" и хоть поинтересоваться, что это такое, романный жанр.
|
- Кинофильм по "Дуэли" Чехова назывался "Плохой хороший человек". Вот точно такой же и этот роман: плохо-хороший.
|
|
- Совершенно точно. Он какой-то кострубатый, все торчит, ни сюжета тебе, ни композиции, а читается с интересом. Это не литературщина.
|
- Эй, билиофилы 1-ые, 2-ые и прочие! Начал было и я (с вашей подачи) читать этого "Реформатора". Если это и реформатор, то русской грамматики. Там на каждое прилагательное по три прилагательных в скобках. Такое совершенно невозможно.
А этот "Андрей", что призывает здесь к антипутинщине - болван совершеннейший. Не собираюсь даже ничего объяснять. Пусть почитает того же "Реформатора", которого я здесь только что раскритиковал.
|
|
- Валерий Сердюченко о романе Юрия Козлова.
|
|
- По-моему, муть страшная - чтиво на уровне дамских романов.
Но только я бы
рекомендовала автору для большего успеха среди публики вставить
побольше любовных сцен, скажем, через каждые 5 страниц. А
то очень спать хочется при чтении. Дошла я до того места, где
Савва с девушками развлекался за СССР, и поразилась - не
жалко же килобайтов на винчестере в "Русском переплете".
Да и сам процесс плохо описан, без души, все равно как в передаче
"Про это" - скучно невыносимо. Вот, например, можно было бы
вставить и вынести на обложку подобный пассаж:
Лунный свет стекал по ее русалочьим волосам и телу, оно мерцало,
трепеща в его руках. Две гибкие рыбы извивались, серебрились
в танце, волны стонов поднимали и опускали их, захлестывали мне
лицо, надвигался шторм. Все тонуло в смутной пелене, и
я плакал во сне от желания.
Еще вставить несколько подробностей - и тираж поднимать в
два раза. Половину дополнительной прибыли - "РП".
А то какое-то механицистско-анатомическое описание.
Вы уж извините, что я все про рыбок - кошка все-таки. Зато,
как-никак, живое что-то.
|
|
- Пока наши тупые СМИ жуют "Голубое сало", Козлов пишет великолепную прозу. Полагаю и эту оценку зауженной, поскольку "Реформатор" потрясает глубиной и болью, мудростью и горечью, философской мощью, о б р а з о м страны и времени. Мне глубоко, искренне (без тени иронии это пишу) жаль тех, кто не в силах по разным причинам подняться до этой вещи. Но таков удел большой литературы.
|
|
- Роман написан в стиле К. Льюиса. Он весьма интересен. Автор - философ.
Просьба к владельцам сайта - сделайте роман доступным для чтения. Все время проблемы с переходом на страницу.
|
| 254635 |
2003-12-12 15:28:52 |
| Ольга
|
|
- Добрый день! Извините, но у меня вопрос не по теме. Подскажите где можно приобрести книгу Вильяма Козлова "Услышать тебя". Спасибо!
|
|
- Уважаемые,указывать Мастеру как писать нельзя, а как можно - это не отзыв. Напишите лучше, причем так, как по-вашему мнению можно и нужно... Юрий Козлов - единственный живой гений. Не преувеличиваю. Если бы жил Достоевский, уверен, он писал бы не лучше. А может быть (да простит меня Федор Михайлович) даже хуже, чем Юрий Козлов. Суть: Юрий Вениаминович не писатель-технолог а ля толпа сорокиных-пелевиных, он - мистик,духовидец,пророк. И открывшееся ему столь масштабно, что ремесленная состовляющая творчества уже не важна,хотя и в этом он на несколько порядков выше хорошего писателя-технолога.
|
| 265377 |
2005-07-08 23:13:01 |
| Yuli
|
|
- Юрий Козлов - графоман.
Жизнь устроена несправедливо. Среди тех, кто обладает литературныи талантом, преобладают люди, которые писать тексты не любят. Но среди тех, кто любит писать, преобладают бесталанные.
|
- Здравствуйте, Yuli!
Оставим Козлова в стороне.
"Среди тех, кто обладает литературным талантом, преобладают люди, которые писать тексты не любят. Но среди тех, кто любит писать, преобладают бесталанные".
Лев Толстой, обладавший и литературным талантом, и гениальностью (художественной созерцательностью), написал, как известно, 90 томов. Антон Павлович Чехов, проживший вдвое меньше, написал 30 томов. Громадное число романов, повестей, очерков и писем оставил после себя Диккенс (самое крупное, но не полное советское издание 1950-х гг. включает 30 томов). 40 томов составляют наследие Джека Лондона.
Эту четверку я выбрал не напрасно: все упомянутые большие писатели трудились ежедневно, преимущественно с утра и до обеда (Чехов еще и вечером). Писание вошло у них в привычку. Выражение "Ежедневно 1000 слов" Лондона стало классическим.
А вот замечательный советский писатель Юрий Казаков написал и вправду немного. Но как написал!..
Нет такой формулы, Yuli: талант пишет мало, бездарность - много.
"Жизнь устроена несправедливо".
Вполне справедливо и строго устроена: гениальных людей и талантливых истинно людей всегда мало, и они одиноки в толпе графоманов-симулякристов вроде Пелевина, эпатажных мазил вроде Малевича или какофонистов вроде Шнитке. Божественный парадокс в том, что истинно реалистический талант сияет на фоне разной нечисти (как Чехов и Бунин на фоне "символистов" и прочих "декадентов"). Одинокость и отрешенность сопровождают гения в его творчестве (Иван Ильин).
"Бесталанных" же всегда большинство. В эпоху перемен, когда из мутных глубин на поверхность всплывают всех мастей дилетанты и посредственности, умеющие задавать тон в культуре, науке и образовании, число "копченых сигов" (Чехов) увеличивается процентов до девяноста девяти. Но ведь они пишут на потребу публики, на фальшивую "постмодернистскую" злобу дня, а не так пишут, как завещал Антон Павлович: "Писать, думая о будущем".
С уважением - Олег Чувакин.
|
|
- "на фоне "символистов" и прочих "декадентов" - 2Чувакин. Олег, я вам советую перед тем, как постить здесь (да и вообще, где угодно) подобные реплики... так вот, я вам советую перед этим хорошо и много думать. Символисты это, по меньшей мере, Брюсов, Сологуб, Бальмонт и Анненский, а по большей мере - Белый и Блок. Блок, о котором Ходасевич (большой поэт классической традиции)говорил: "Есть Пушкин и Блок, а остальное - между". Поверьте, вы не делаете ничего хорошего ни для памяти Чехова, ни Бунина, упоминая их таким образом. Я думаю, величие Чехова не требует унижения других хороших русских авторов.
|
|
- "на фоне "символистов" и прочих "декадентов" - 2Чувакин. Олег, я вам советую перед тем, как постить здесь (да и вообще, где угодно) подобные реплики... так вот, я вам советую перед этим хорошо и много думать. Символисты это, по меньшей мере, Брюсов, Сологуб, Бальмонт и Анненский, а по большей мере - Белый и Блок. Блок, о котором Ходасевич (большой поэт классической традиции)говорил: "Есть Пушкин и Блок, а остальное - между". Поверьте, вы не делаете ничего хорошего ни для памяти Чехова, ни Бунина, упоминая их таким образом. Я думаю, величие Чехова не требует унижения других хороших русских авторов.
|
- Уважаемый Владимир!
Общеизвестно, как относился к декадентам Чехов:
"Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать".
Не секрет и то, что писал о символистах Бунин:
"Кстати сказать, узнал я из этих "Верст", что "гениальный" Белый написал новый роман и как именно написал он его. Вот несколько образчиков:
Заводнили дожди. И спесивистый высвист деревьев не слышался: лист подвеялся; черные россыпи тлелости тлели мокреслями...
Пальцы дергунчики выбарабанивали дурандинники... Лизашка откликнулась, с грудашкою, вовсе не грудкою, и не большого росточка... Прическа куртиночка; вся толстотушка... Груди ее были тряпочки; ножки ее были палочки; только животик казался бы дутым арбузиком...
И так далее, и так далее".
А Иван Ильин в "Основах художества" писал так:
"И надо всем этим царит какая-то чувственная возбужденность, нервная развинченность и духовная пустота, - три свойства, все вместе определяющие атмосферу современного "модернизма" в искусстве.
Чтобы убедиться в болезненности и в бездуховности современного искусства, достаточно вслушаться чутким слухом и здоровым духом в то, о чем вопит или вскрикивает музыка Рихарда Штрауса, Скрябина и заразившихся от них "новаторов"; надо испытать и понять, куда она нас тянет, чем она нас заражает, какие медитации она нам навязывает. Надо верно уловить, о чем скрежещет, дребезжит и балаганит музыка Стравинского; надо духовно постигнуть, о чем вавилонски столпотворит, иногда сразу в различных тональностях, музыка Прокофьева. Какими судорогами, какими гримасами, какими химерами, детищами мрака и хаоса - населяет эта музыка художественные пространства нашей души. Необходимо дать себе отчет в том, в какую духовную смуту, в какие религиозные соблазны вели нас русские предреволюционные поэты, начиная от Александра Блока, Андрея Белого и Вячеслава Иванова и кончая Маяковским и Шершеневичем, писавшим в Москве на стенах Страстного монастыря кощунственный вздор: "Бог, отелися!" <...>
Что это все - искусство или гниение? Что происходит в бессознательном у людей, которые этому предаются и этим наслаждаются? Каким духам они служат? Какие химеры они испускают из себя и впитывают в себя? Не духовный ли недуг? Не душевная ли болезнь? Не хаос ли безбожия?
<...>
Выветрилась религиозность и оскудела духовность в бессознательной глубине современного человека. И потому в творчестве его обессилилось и исчезло вдохновение. Люди продолжают нуждаться в искусстве и "делать" его., А вдохновения нет; и вот место его занимается или нечистым опьянением, создающим помешанное "искусство", или же рассудочною выдумкою и формальным наслажденчеством, когда людям безразлично, что создавать, лишь бы были "новые краски", "резкие линии", неслыханные манеры, пряные звучности, изысканные выверты и словосочетания, невиданные телодвижения, потрясающие душу "трюки".
<...>
Это искусство родится из утомленной, пустой, скучающей души; именно поэтому оно ищет эффекта, занимательности, возбуждения, шума, треска, дребезга и нервной щекотки. Оно обращается к скучающим, пустым, утомленным душам, которые смотрят на искусство, как на своего рода "возбуждающее средство".
<...>
Кризис современного "искусства" состоит в том, что оно утратило доступ к главным, священным содержаниям жизни и погасило в себе художественную совесть. О главном, о мудром, о священном искусству модернизма нечего сказать; ибо те, кто его творят, не испытывают, не воспринимают, не видят этого Главного. Они одержимы личною прихотью и в лучшем случае личною химерою, полагая, что яркое и эффектное выявление ее создаст настоящее искусство. Но именно поэтому их "искусство" или просто удовлетворяется ничтожным и пошлым (модернистическая живопись, французские романы наших дней, предреволюционная поэзия Игоря Северянина, беллетристика Андрея Белого, новейшая архитектура европейских городов, подавляющее большинство кинематографических пьес, музыка Стравинского), или же пытается выдать свои создания за какие-то высшие "пророческие" прозрения и достижения, по-хлыстовски смешивая блуд и религию (поэзия Александра Блока и Вячеслава Иванова, "экстазы" и "мистерии" Скрябина, и вообще все течения русского искусства, зараженные духом В. В. Розанова). Читая это, слушая это, видя это, нельзя не испытывать чувства стыда и тоски: мучительно стыдно, что они не стыдятся "творить" так и такое, что они сознательно и открыто не постеснялись погасить в искусстве тот священный трибунал Духа и Вкуса, который в душе помешанного угасает невольно, катастрофически, вследствие напора безвыходно кипящих страстей...
Поистине большевистская революция осуществила в имущественных, государственных и общекультурных отношениях именно то самое упоение вседозволенностью, именно тот самый бред страстей и похоти, именно ту самую идеализацию греха, именно то самое разнуздание инстинкта, которое в искусстве осуществляло у нас это предреволюционное поколение "модернистов". И большевистское искусство, начиная от Мейерхольда и кончая Маяковским, - только довершило по-своему все это разложение и проявило этот кризис с вызывающим бесстыдством духовного "помешательства".
<...>
Русский художественный гений не угасал и не переставал творить за эти годы предреволюционной и революционной смуты. С нами вместе, и здесь, в зарубежьи, и там, в подъяремьи он продолжал жить, страдать и творить на всех путях и языках искусства. Но слышим ли мы его? Узнаём ли мы его? Научились ли мы отличать художественное от гнилостного, великое от пошлого, целительное от погибельного, мудрость от соблазна? Или нам нужны еще дальнейшие очистительные испытания и страдания?
Умудримся же и научимся! России нужен дух чистый и сильный, огненный и зоркий. Пушкиным определяется он в нашем великом искусстве; и его заветами Россия будет строиться и дальше" (конец цитаты).
Да, именно Пушкиным определяется, Пушкиным, которого футуристы-модернисты "сбрасывали" с "парохода современности" и после смерти которого (и смерти Лермонтова), по выражению, приводимому Солоухиным, "дерево русской поэзии пошло в сучья".
Недаром после "золотого века" литературы наступил "серебряный". Наш, XXI век, век релятивистского постмодернизма, не потянет у потомков и на бронзовый.
|
|
- Уважаемый Олег. Тот , кто плюет на "серебряный век" русской литературы, плюет и на ее "золотой век". Больше мне вам сказать нечего.
|
|
- Уважаемая коллега, Вам еще не надоело искушать судьбу ? Она ведь дама своенравная , может и взбрыкнуться .Как там у классиков :"...ты с ума сошла, Коза, бьешь Десяткою Туза ..":(( Да и на кой Вам это нужно ? Меньше будете знать, дольше будете жить . Это я Вам как доктор говорю.
|
| 297212 |
2011-10-25 15:37:31 |
| Сергей
|
|
- Моё мнение, сортирный писатель. Пару книг прочитал, могу точно сказать; такое можно читать только сидя на горшке, когда чем то надо заняться
|
| 297218 |
2011-10-25 23:36:33 |
| Куклин
|
|
- Сережа, мне досталась неприятная судьба быть литературным гуру увлекшегося милитаристической идеологией сорокалетнего недоросля, потому я даже подумал, что работаю с твоим инфантильным разумом безуспешно. Но вдруг из тебя сквозанула слабенькая, но искорка, как из выброшенного из чеченского костра кусочка овечьего навоза, - в виде поста номер 297194, который на самом-то деле является вершиной всего твоего так называемого творчества. Сбереги ее, не дай задуться ветром из собственных твоих чересчур гневливых уст, подбрось пищу огоньку своего слегка пока лишь прозревшего сердца, пусть даже кизяком войны. Ибо кто еще из литераторов твоего поколения расскажет обо всем тобой мимоходом сказанном, а на самом деле являющемся сутью всякой войны?
А если еще и расскажешь, как неискупаемый грех торжествовал в победившей Россию Чечне, то может случиться так, что мы сможем прочитать книгу настоящего новорусского писателя-баталиста. Подумай о том, насколько был боевым кабинетный генерал Лебедь, к примеру, дважды изменивший присяге, подписавший самые позорные в истории России хасавюртовские бумажки, грабивший Красноярсий край самым бесчетным образом, про о лукуловы пиры за счет обездоленных россиян нынешней чеченской верхушкой, приведенной к власти в том числе и тобой.То есть займись делом, а не бессмысленными спорами в Дискуссинонном клубе, угождением и соужбой Нихаласу Вернеру, участвовавшему как раз-таки в Чечне не в боевых действиях, а в подписании вышеназванного позорища. То есть живи так, чтобы не было тебе мучительно больно и стыдно перед детьми и внуками за совершенные тобой неблаговидные проступки. А именно: не пиши доносов на коллег, и не пиши грязных слов в авторском тексте, не верь википедиям, уважай стариших, мой руки перед едой и после посещения туалета, читай классиков, не заигрывай с членами стай, организованных по национальному признаку, и страрайся думать не по шаблонам, не по уставу, а самостотельно. Хотя бы 1 рз в день по 5 минут.
|
| 299236 |
2012-02-09 12:13:02 |
| Ирина
|
|
- Всем, кто прочел "РЕФОРМАТОРА" - вчера случайно узнала о проекте макета России, который делает один товарищ в Питере. Прочла это сообщение и сразу же вспомнила "РЕФОРМАТОРА"! Мистика какая-то! Да и сам автор этого проекта то же человек донельзя необычный... Посмотрите "Родина непуганых человечков" в любом поисковике. Интересно, что вне прочтения этой книги новость не кажется такой выдающейся, нежели в связи с ней!))
|

Copyright (c) "Русский переплет"